Уранотипия Иерусалима: роман о русских картографах и их тайной миссии на Святой земле
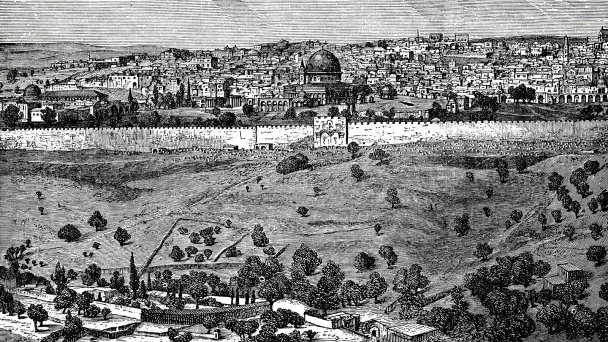
Осенним вечером 183 года в Яффском порту на берег сошли два русских путешественника. За ними брели носильщики, навьюченные баулами так, что были видны только семенящие ноги.
Их встречал молодой человек в пыльной одежде, явно приехавший в порт издалека.
Один из прибывших был низкого росту и склонен к полноте. Второй, хоть и казался старше, был быстр и резок, рядом с ним встречающий и вовсе выглядел юношей.
Путники были одеты в дорожное немаркое платье. За ними волочили ящики и чемоданы — в необычном даже для здешних мест количестве. Слуга нес лишь небольшой саквояж.
С виду они походили не на паломников, а на концессионеров. Но сколько бы ни было у них багажа, какой путь бы они ни преодолели, восточный порт проглотил их, смешал с толпой носильщиков, с горами тюков, с деревянными ящиками и грудами джутовых мешков. Запахи Востока закружились вокруг прибывших, как знойный ветер, перемешанный с песком. Но видно было, что им все не впервой — и запахи, и тягость долгого путешествия, — разве толстяк, изнемогая от жары, крутил головой. Толстяку было дурно, но он старался не отставать от своих товарищей.
Они отправились в гостиницу для европейцев и по дороге говорили между собой пофранцузски.
У дверей гостиницы их встретил каменный слон. Изображение животных, как известно, порицается Кораном, но, если оно сделано для глаз неверных и служит привлечению денег, на это можно закрыть глаза. У мусульман и иудеев слон считается нечистым, его нельзя есть, но этот слон был из камня, так что никто и так не подумал бы его тронуть.
Впрочем, хозяин был армянин и с разными гостями вел себя по-разному, притворяясь то греком, то турком, а то евреем.
Один из путешественников остановился, разглядывая слона. Услужливый хозяин завел долгую речь, в которой мешались исчезнувшие страны и мертвые цари. Он рассказывал о восстании евреев в начале нового исчисления времени, которое Селевкиды пытались растоптать слонами. Но слоны стали легкой добычей в горах и на узких дорогах.
Часть из них просто бросили, отступая. Они были мудрее людей и ушли в леса. Это были слоны-дезертиры, — в этот момент хозяин подмигнул и расплылся в улыбке. Было видно, что он одобряет выбор слонов.
Во время Великого восстания уже евреи призвали бесхозных слонов и пошли с ними на йодифат. Теперь слоны давили римлян. Но восстание догорело, и слонов постигла участь восставших — так всегда бывает, когда примкнешь не к той стороне. Победитель не разбирает мотивов, он очищает пространство — и слонов, выведя в поле, казнили, как людей.
— Но, — говорил хозяин, — перед вами не боевой, а мирный слон. Он прибыл сюда по торговым делам, а не за этим. Мой слон уютный и домашний, и вам здесь будет уютно, как дома.
Задержавшийся путешественник, впрочем, уже шел внутрь, не слушая.
Только когда русские странники остались одни, заняли номера, а потом сошлись вместе, они перешли на свой язык.
Они стояли в комнате старшего, где, как убитые на войне, громоздились друг на друге нераскрытые еще тюки и сумки.
Посреди большого стола легла карта, ее придавили по краям четыре тяжелые бутылки.
Ночной зной втекал в комнату через ажурное оконце, за окном едва шевелились пальмы. Но троица не обращала внимания на жар старых камней.
— Петр Петрович, я рекомендую вам виски — от британцев взят, весьма хорош, — предложил молодой на правах хозяина.
— А скажите, Михаил Павлович, британцы все о нас знают?
— В пределах допустимого. Тут лучше пусть знают что-то, понятное уму, полная скрытность рождает нежелательные фантазии.
— А я, извините, выпью анисовой. Мне не привыкать. — Это был толстяк.
К нему обращались «Максим Никифорович», будто на равных, но, судя по всему, звания он был низкого.
Максим Никифорович быстро сомлел и ушел к себе. Через мгновение послышался его бодрый храп.
Заснули все. Заснули путники на постоялых дворах, заснули купцы в задних комнатах своих лавок, уснули императоры и князья, спали часовые в караулах, забылись беспокойным сном холерные больные по всей Азии и Европе, дремали ученые мужи, обхватив свои микроскопы и телескопы, будто неверных молодых жен, разве руку какого-нибудь поэта ловила рука молодой прекрасной женщины — но так мало кому везет.
В это время в иерусалимском монастыре смотрел незрячими глазами в потолок старый монах. Ночь наступила для него давно, но он умел отличать свет от тьмы по тому, как они касались его лица. Впрочем, в его келье никогда не было света, а выходить наружу ему было трудно.
Монах думал, что Господь тоже спит, иначе Он не заставил бы его видеть во снах прошлые жизни. Это противоречило правилам веры, норовило приспособить ее к восточным делам. Здесь, на Востоке, все, что располагалось достаточно далеко в направлении восхода, казалось несуществующим. Но с древнейших времен в восточные земли шли караваны, и старик слышал истории о той вере, в которой душа, прежде чем встретиться с Господом, еще много раз скитается по чужим телам. И то наказание снами, что нес монах в келье, казалось прямым следствием Господнего сна. Иначе Он не допустил бы такого.
Но теперь монах думал, что странствия по старым снам должны скоро закончиться.
Однажды, лет десять назад, к нему пришел путешественник, родом поляк, служивший русскому царю. Поляк узнал, что монах родом из страны, которую на полгода заваливает снегом — сперва пухлым, а затем твердеющим, — а реки застывают, будто олово. Путешественником двигало не религиозное чувство, а любопытство.
Разговор у них не клеился. Поляк явно хотел услышать от монаха какие-то остроумные наблюдения, чтобы записать их в свою книжечку, но тот разочаровал его.
Тогда путешественник стал спрашивать невпопад, как на этой земле много лет назад один властный человек спрашивал неизвестного оборванца.
— Что есть Бог? — спросил поляк.
— Бог есть любовь, — прошелестел монах.
Путешественник злился, ему уже казалось, что время в темной келье потрачено зря. Ему все же хотелось записать в книжечку какуюнибудь притчу, что могла стать восточной повестью, заключить ее в ларец с причудливым орнаментом, чтобы потом напечатать в журнале. А монах отвечал односложно, и его слова было почти невозможно использовать. Более того, в этой экономии слов была особая сила, уничтожавшая литературу, которую так любил поляк.
Наконец они расстались.
Архип Иванович Витковский вышел из кельи на свет, туда, где жара плавила камни. Он возвращался на родину из Каира, — впрочем, с понятием родины у него были сложные отношения. Он был подданным империи, но таких, как он, империя не любила. Если бы он происходил из той Польши, где царил настоящий польский дух, все было бы проще, но Витковский был из Восточных Кресов, где народы мешаются, как капуста с колбасой в бигосе.
Тогда, 10 лет назад, он попал на Святую землю проездом из Каира. Путешествуя по египетским пескам, он однажды заехал далеко, дальше, чем думал, и остановился в часовне на берегу Нила. Место было христианское, несмотря на то что со времен Бонапартия Египет представлялся чем-то избыточно древним, а затем — арабским. Теперь он был под властью Порты, но никто, кроме дипломатов, не разобрался в этой скуке. Досужие путешественники возвращались в Париж или Петербург, предъявляя не наблюдения, а чалмы и расшитые золотом немыслимые халаты. Витковский же не обзавелся халатами, но переписал множество рукописей по монастырям и перевел несколько книг.
А тогда он лежал на полу часовни и смотрел на небо, изображенное на потолке. Небо было наполнено причудливыми существами, а всего их было двенадцать.
Также он видел пять планет и то, как Солнце заходит за Луну. Это неподвижное небо, полное звезд, ему казалось чрезвычайно любопытным, и его можно было разглядывать бесконечно. Обычно мужчины смотрят так на небо, если они пьяны или умирают на поле боя, но Витковский был трезвенником, а военное дело презирал от всей души — за нелепость и взаимное неумение.
Каменное небо, высеченное неизвестными скульпторами во времена Нового царства, ему нравилось больше настоящего, хотя он знал, что оно неточно передает то, что находится выше, над потолком.
На настоящем небе двигались планеты, его затягивали тучи, и все в нем было в беспорядке, как в человеческой жизни. Поднимался ветер, переходил к югу, от юга переходил к западу, к северу и востоку и возвращался на круги своя, а в часовне не было ветра, одна прохлада и вечность.
Что-то в этом каменном небе было завораживающим, и он размышлял о том, что удел всех империй — завоевание, а если экспансия замедляется, то цари обращают свои взоры ввысь и думают, нельзя ли отвоевать чужое небо. Но теперь не обязательно брать чужое небо силой, его можно просто обменять на деньги.
Так вышло, что он, используя уговоры и отведенные ему деньги, купил египетское небо, и теперь оно в трюме корабля двигалось на север. Сперва оно достигнет Константинополя, потом Одессы, а затем его на подводах повезут в Санкт-Петербург. Чужое небо будет его славой, а слава лучше денег, потому что деньги липнут к славе.
Каменное небо было чем-то вроде слона, которого отправляли на север, в дар царям и королям. Восточная диковина, которую можно разглядывать в зверинце. И он, Архип Иванович, будет кем-то вроде погонщика элефанта. Человека, что исправно получает деньги на содержание причудливого животного. А кроме денег, слону полагались морковь с репой и ведро хлебного вина, что тоже скрашивает жизнь — и слону, и его хранителю.
К тому же мертвый камень лучше живого слона в пользовании. Он не портится, не болеет от гнилой моркови и нуждается лишь в толковании.
Дело было на мази, но началась очередная война греков с турками, и сообщение стало невозможным, как и само пребывание Витковского на земле Порты.
И тут ему попался один человек, француз, одетый, как араб, но с военной выправкой. Этот француз скрашивал Витковскому вечера разговорами, потому что в нищей стране уроженец Вильны не мог найти себе достойного собеседника. Моруа раньше жил в Венеции, но о своих перемещениях по свету он рассказывал сколь цветисто, столь и неточно, так что Витковский время от времени полагал, что француз выдумал половину своих приключений, чтобы скрыть другую их половину.
К примеру, Моруа рассказывал о том, что в Венеции по городу ходили свиньи, принадлежавшие монастырю Святого Антония. И некий путешественник заметил, что свинья неприятна мусульманам и евреям, не едящим свиного мяса, и поэтому сами свиньи как бы принадлежат истинной религии. Рассказывали, что один человек хотел убить свинью святого Антония, но свинья бросилась на него, искусала, отбилась от стражи и ушла.
«Впрочем, все путешественники привирают, — думал Витковский, — наверняка Моруа украл где-то эту историю».
Сам Архип Иванович видел живую свинью только два раза в жизни, когда ехал на юг по дурным дорогам в Шклове и Полтаве.
Итак, француза звали Моруа, но иногда он представлялся «капитан Моруа», однако ж было непонятно, находится ли он в отставке или при какой-то службе.
Говоря с ним, Витковский, чья память оставалась безупречной, думал о картографии древнего неба, и картографии неба нынешнего, и о том, что недаром люди норовят подсмотреть в небе подсказки о будущих временах. И вот из этих воспоминаний, из фигуры Водолея с двумя чашами в руках, из рогов Овна и плеска Рыб ткалась какая-то идея, которую он не мог никак завершить. Итак, империям не нужно любви, всегда нужно чужое небо...