
Выигрыш в политике — возможность влиять на принятие государственных решений, координировать их и контролировать. За этот выигрыш идет борьба. Поведение политических сил, по мнению институционалистов, определяется правилами игры, по которым вынуждены играть политики, а также их собственными интересами. Понимая правила игры и интересы политиков и чиновников, мы можем предсказывать их поведение — задача, становящаяся в последние годы в России все менее тривиальной.
Региональной политике в России присущи черты унитарности: доля федерации в бюджетных расходах составляет 60–65% (в 1990-х — в основном 45–50%), права по сбору налогов и распределение расходных обязательств сосредоточены в центре, для региональной политики огромное значение имеют трансферты. Будучи по названию федерацией, в конструкции политического и бюджетного процесса Россия очень далеко отстоит от классических федераций — США, Германии, Канады. От федерации нас отличает отсутствие у регионального уровня власти сферы полномочий, в которой он был бы автономен от центра, и гарантий этой автономности. Вполне соответствует унитарному принципу и процедура фактического назначения сверху глав регионов, и слабое участие регионов в управлении государством в целом.
Будучи формально федерациями, ни СССР, ни тем более РСФСР федеративными государствами не были, пишет Андрей Стародубцев, сотрудник Центра исследования модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге и университета Хельсинки в книге «Платить нельзя проигрывать: Региональная политика и федерализм в современной России». В РСФСР автономные республики отвечали за те же функции, что и вышестоящие органы власти, то есть были встроены в вертикаль.
Реальная федерализация в СССР стартовала лишь во второй половине 1980-х, когда советское руководство столкнулось с невозможностью проводить единую командно-административную политику на территории всей страны. Регионам было предложено справляться со своими проблемами самостоятельно. Но полноценную программу федеративных реформ Михаил Горбачев предложил только в мае 1989-го, и она была погребена вместе с Союзом, отразившись в попытках регионов взять больше суверенитета и готовности центра его отдать.
В 1990-х отношения центра и регионов развивались по схеме «лояльность в обмен на невмешательство»: шантажируя центр провальными результатами выборов, регионы выторговывали все больше полномочий. По сути, федерализация была связана не с активными действиями регионов, а со слабостью центра. Региональная вольница 1990-х была реакцией на слабость федеральных политических игроков и отсутствие стабильных правил игры, а не результатом стремления регионов к автономии или идеологических предпочтений региональных элит. Максимума влияния региональные элиты достигли к 1999 году, когда регионы, сформировав блок «Отечество — вся Россия» во главе с Юрием Лужковым и Минтимером Шаймиевым, заявили о желании контролировать важнейшие посты в государстве. Его провал в конкуренции с Владимиром Путиным, выдвинутым федеральной командой, стал центральным событием федеративной истории России. Унификация законодательства на всей территории страны и контроль за регионами через систему федеральных округов стали первыми шагами нового президента.
Регионы легко расстались со своими правами. В Конституции 1993 года все субъекты Федерации, а не только республики получили равные полномочия. В результате формирование федерации на территории России стало побочным эффектом: не завоеванием, а своеобразным даром. Стародубцев пишет: «У регионального сообщества не формируется восприятие автономии как ценности, которую необходимо отстаивать». Беспрекословное подчинение губернаторов центру стало платой за возможность продолжать получать ренту от управления регионом. В консолидированном бюджете выросла доля трансфертов (центр стал перераспределять больше средств), увеличилось число федеральных чиновников на местах.
Эти закономерности отражаются и в распределении денег. В 2000-х годах центр сильнее всего поддерживал деньгами и льготами (через ОЭЗ, ФЦП, бюджетный инвестфонд) самые экономически слабые регионы и, наоборот, самые сильные — обеспечивая их лояльность.
Вывод Стародубцева: российская региональная политика сильнее зависит от политических процессов в стране, чем от проблем и целей в развитии регионов. После введения нового порядка избрания губернаторов в 2004–2005 годах даже трансферты были деполитизированы: центру уже не нужно было «покупать» лояльность региона, ведь она была обеспечена автоматически.
Возможен ли в России ренессанс региональной политики? Конечно. Но не раньше, чем снова возникнет политическая конкуренция. Правда, велик риск, что тогда, как и в 1990-е, региональная политика станет и для федеральных, и для региональных игроков не самоцелью, а инструментом в достижении политических целей на федеральном уровне. Непоследовательность российской региональной политики обусловлена тем, что она всегда была подчинена вопросам выживания и укрепления власти федеральных игроков. Региональные элиты пока лишь статисты, а главным действующим лицом даже во время парада суверенитетов был центр. Сможет ли Россия стать федерацией не только по названию — вопрос складывания региональной идентичности, за которую элиты будут готовы бороться независимо от размера нефтяной ренты, которой в данный момент обладает центр.
Выхолащивание политического процесса, которое Стародубцев показывает на примере региональной политики, 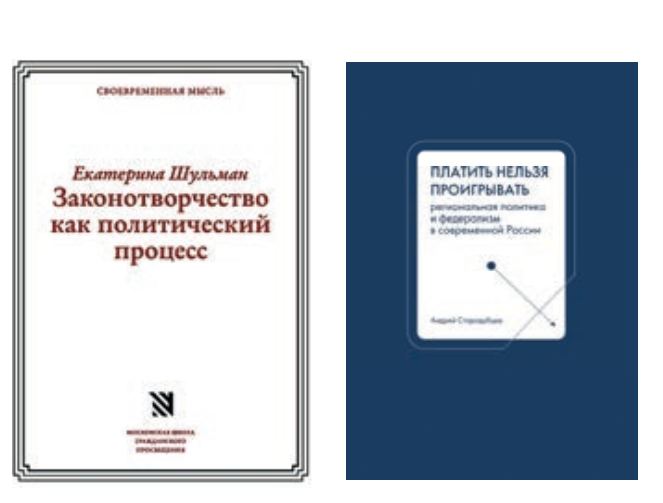 Екатерина Шульман демонстрирует на примере российского парламентаризма. Ее работу «Законотворчество как политический процесс» опубликовало издательство Московской школы гражданского просвещения. Выстроенный к нынешнему президентскому сроку парламент вполне отвечает требованиям «эффективности» (максимальная производительность на единицу времени в смысле числа принятых законопроектов с минимальными затратами средств и усилий) и «конструктивности» (максимальная предсказуемость).
Екатерина Шульман демонстрирует на примере российского парламентаризма. Ее работу «Законотворчество как политический процесс» опубликовало издательство Московской школы гражданского просвещения. Выстроенный к нынешнему президентскому сроку парламент вполне отвечает требованиям «эффективности» (максимальная производительность на единицу времени в смысле числа принятых законопроектов с минимальными затратами средств и усилий) и «конструктивности» (максимальная предсказуемость).
Но собственно качество законотворческой работы опустилось ниже всякой критики. Это можно констатировать вне зависимости от отношения к политическому режиму в стране. Примеры законодательных провалов — монетизация льгот, закон об игорных зонах, который в позитивной своей части оказался нереализуем, а в негативной привел к переходу игорной индустрии на нелегальное положение и, что еще хуже, к сращиванию правоохранительных органов и оргпреступности. Теперь даже глава государственно-правового управления президента Лариса Брычева, один из творцов этой системы, призывает парламентариев к вдумчивости (Шульман цитирует ее непубличное выступление в Госдуме в феврале 2014 года): «Хотелось бы, чтобы скорость изменений в законодательстве была как-то по возможности приторможена, и можно было бы тогда более обоснованно, более сбалансированно находить решения».
Компенсировать отсутствие дискуссий в парламенте должны были его суррогаты — Общественная палата, а затем Открытое правительство и т. д. Общая черта всех подобных конструкций: они дают возможность гражданам, экспертам и лоббистам высказаться, но не более. Имитационный характер таких конструкций со временем лишь усиливается. Политическая конкуренция, которая может оживить спящий федерализм, придаст и этим институтам полноценный характер. Они перестанут быть суррогатами. Ужасные законы были бы иными, если бы о них спорили конкурирующие друг с другом депутаты, которым предстоит идти на выборы, где успех не гарантирован. Монополия — инсульт для законотворческой системы кровообращения, пишет Шульман, а любая фракция с пакетом голосов 50%+1 — убийца парламентаризма.
Чтобы вернуть парламенту нормальный вид, исполнительной власти придется наступить своей песне на горло: отказаться от закрытых обсуждений, нулевых чтений и ускоренных рассмотрений законопроектов, перейти к постатейному утверждению бюджета, исключить все «чрезвычайные» нормы. Собственно, нужно будет вернуть парламенту полномочия, изъятые у него в 2000-х. А также вернуть регионам и населению изъятые у них права.